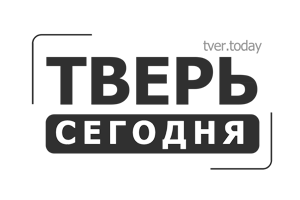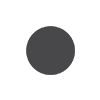Читатель Толстов: советская экономика, застолье с Чеховым и культурная история китов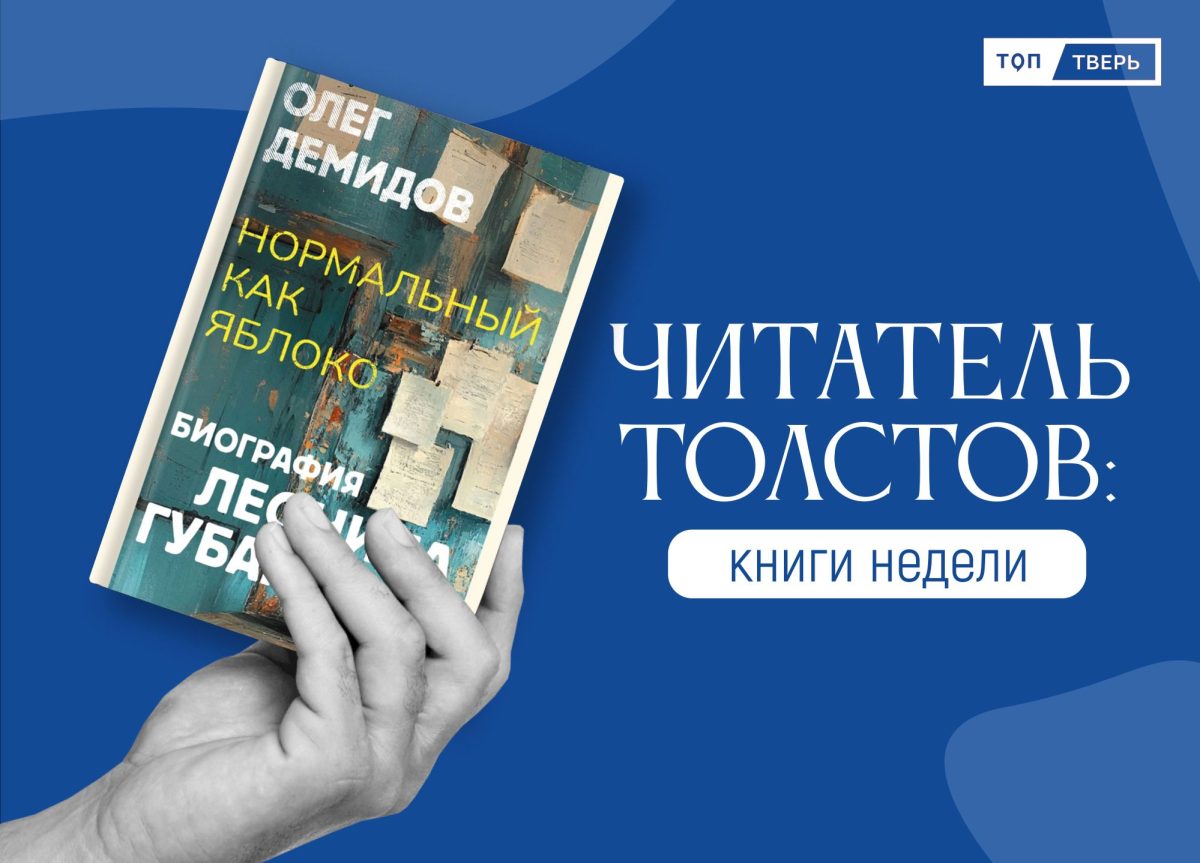 А между тем, дорогие читатели, это уже 60-й выпуск «Читателя Толстова» на платформе «ТОП-Тверь». И в нем, как всегда, лучшие новинки. Изучайте, выбирайте, читайте! КНИГА НЕДЕЛИ Эту книгу Олег Демидов писал десять лет. Тут надо знать, кто такой Олег Демидов: поэт, культуролог, просветитель, критик, член команды издательского проекта «КПД» (Колобродов-Прилепин-Демидов) – одной из очень немногих в российской книжной сфере институций, издающей книги, написанные участниками СВО (среди них – «Собиратели тишины» Дмитрия Филиппова, книга стала лауреатом литературной премии «Слово» в прошлом году, «Читатель Толстов» о ней писал). Но для меня Олег Демидов прежде всего исследователь истории отечественной литературы. Лет десять у него вышла книга об Анатолии Мариенгофе – практически забытом ныне поэте, близком друге Сергея Есенина, которому суждено было всю жизнь пребывать в его тени. Леонида Губанова, ставшего героем новой книги Демидова, можно было бы сравнить с Мариенгофом по обстоятельствам жизни. Он также не получил прижизненной славы, да и посмертная известность не простирается дальше узкого круга почитателей и исследователей «подпольной» советской поэзии. Леонид Губанов в 1960-е годы создал легендарное (скорее, культовое, о нем мало кто сегодня помнит) творческое объединение молодых художников и поэтов СМОГ –«самое молодое общество гениев». Его стихотворения не стали книгами при его жизни, они распространялись подпольно, в самиздате, и уже тогда привлекли внимание исследователей как безупречные уникальные образцы национального поэтического творчества. Губанову было суждено всю жизнь оставаться таким непризнанным поэтом, ведущим полуподпольное существование. В то время как Иосиф Бродский, с которым Губанов довольно тесно общался, стал Нобелевским лауреатом и живым классиком. Может, это иссушающее душу ощущение полной невостребованности, ненужности и привело Губанова к ранней гибели в возрасте 39 лет. Но книга Демидова – не столько биография поэта, жизнеописание творческого пути, сколько широкая панорама литературной и окололитературный жизни в Советском Союзе 60-70-х годов. Существовала официальная советская литература, история которой достаточно подробно изучена. Но параллельно с ней существовала литература подпольная, непризнанная, неофициальная, полузапрещенная. Сегодня этой загнанной в подполье литературой, поэзией, словесностью стали интересоваться исследователи, и книга Олега Демидова, пожалуй, один из лучших опытов такого скрупулезного, тщательного, внимательного к каждой детали изучения времени, отстоящем от нас более чем на полвека. Что меня особенно поразило (и порадовало) – это та кропотливая работа исследователя, которая ощущается в каждом эпизоде этой книги. Олег разыскал множество интервью, каких-то самопальных поэтических сборников, где опубликованы неизвестные стихи Губанова, он (это вообще звучит невероятно) за собственные деньги выкупал автографы губановских стихов и рисунков на аукционах, он разговорил людей, которые были причастны к СМОГу, и много чего интересного рассказали. Леонид Губанов ушел в 1983 году, но даже тогда смог предсказать многое из того, что случится в нашей стране впоследствии. И книга Олега Демидова – может быть, лучшая дань памяти, которую получил поэт, непризнанный при жизни, но, несомненно, достойный признания сегодня. Дипломированный экономист Алексей Сафронов известен давно всем, кто смотрит его великолепные лекции по истории советской экономики на канале «Простые числа». Еще учась в институте, Сафронов с удивлением обнаружил, что до сих пор не существует ни одной (!) книги, которая была бы посвящена работе отечественной экономики в нашей стране в советский период – с прихода большевиков в 1917-м до краха советской системы в 1991 году. По истории СССР написаны тысячи книг, а что представляла собой экономика первого государства «рабочих и крестьян», остается неизвестным. И Алексей Сафронов много лет собирал, буквально по крупицам, фактический материал. И написал книгу объемом в 800 страниц, но, поверьте, читать ее одно удовольствие. В книге не так много таблиц, статистических цифр и прочей нудноты, это именно история развития экономики – от военного коммунизма к НЭПу, от первых пятилеток до Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления, от экономических реформ 60-х до пресловутого «застоя». Как раз именно через экономику, увлекательное, понятное и компетентное описание экономических процессов, происходивших в стране, можно объяснить многие вещи – как складывалась внешняя политика советского государства, какие социальные проблемы переживало общество, почему к концу советской истории население искренне ненавидело коммунистов и их власть – тут тоже не обошлось без экономики. Не знаю, сколько еще книг о советской экономике будет написано, но труд Алексея Сафронова – безусловно, лучшее исследование на эту тему. Читать (особенно если интересуетесь вопросами отечественной истории) советую обязательно! Очередная новинка из популярной «мифической» серии издательства «МИФ», которые часто появляются в обзорах «Читателя Толстова». Мне нравится эта серия – книжки там с большим количеством иллюстрацией, можно не просто узнать о всяких мифологических героях и чудищах разных земель и племен, но и посмотреть, как они выглядели. В Восточной Сибири, которая охватывает гигантскую территорию от Енисея до побережья Охотского моря, жило множество разных народов – эвенки, ненцы, селькупы, нивхи. Изучением их мифологического наследия ученые-этнографы занялись относительно недавно и выяснилось, что даже у самых немногочисленных кочевых народов существуют и бережно передаются из поколения в поколение легенды о происхождении этого народа, сотворении мира, объясняются многие вещи – почему реки текут, а горы стоят. В книге Татьяны Муравьевой помещены очерки, дающие краткое, но вполне емкое и последовательное изложение мифов разных народов – юкагиров и эвенков, бурят и тувинцев, якутов и хакасов. Особенно интересно наблюдать, как одни и те же сюжеты «проецируются» в мифологических системах разных народов. А уж то, что большинство сибирских топонимов (Енисей, Ангара, Байкал) пришли к нам из древних мифов, станет для многих неожиданным открытием. Очень люблю книги Елены Первушиной из цикла, который я для себя называю «застольным». Вышли уже «За столом с Пушкиным», «За столом с Гоголем», даже «За столом с Обломовым». Это такие остроумные и весьма познавательные очерки нашей отечественной кулинарной и гастрономической культуры разных эпох – что подавали к столу в пушкинскую эпоху, каким было меню ресторанов, которые посещал, скажем, Булгаков, и все в таком духе. И каждое упоминание блюда сопровождается рецептом! Но это еще и интересные культурологические исследования, потому что помимо того, что ели в конкретную эпоху, Первушина изучает, что писали тогдашние писатели о еде – и каждая книга «застольного» цикла представляет собой настоящую кладезь «гастрономических» цитат из русской классики. Новая книга – время Чехова, конец 19-начало 20 века. Чехов был большим любителем поесть, и это отразилось в его рассказах. В одном едят поросенка с хреном, в другом мировой судья говорит «жареные гуси мастера пахнуть». И в письмах Чехов всегда прилежно сообщал, что ездил туда-то, там подавали к столу такое-то блюдо. В общем, книга – оригинальная биография нашего русского классика, написанная через призму той еды, которую он любил, она вызывала у него не только гастрономические радости, но и будоражила вдохновение. Действительно, до книги Елены Первушиной даже не обращал внимание, что Антон Павлович Чехов был не только великим писателем, но и изысканным и весьма благодарным едоком! В прошлом году южнокорейская писательница Хан Ган стала лауреатом Нобелевской премии по литературе, и теперь издательство «Жанры» взялось перевести и издать все ее творческое наследие. Совсем недавно «Читатель Толстов» писал о ее романе «Вегетарианка» (18+), новый роман мне понравился меньше. Там писательница, которая пребывает в состоянии постоянной тихой депрессии, даже берется писать завещание, встречает свою знакомую, которая просит ее съездить на отдаленный остров ради спасения некоей птицы (не спрашивайте, обойдемся без спойлеров). В дороге писательница попадает в снежную бурю, едва не погибает, а потом повествование выруливает из поэтической истории в жесткий роман о военных преступлениях. На том самом острове в 1948 году были массовые казни корейцев, выступавших против разделения страны, погибло, по разным данным, от 15 до 30 тысяч человек. И эта страшная история продолжает будоражить островитян, хотя выросло уже два поколения, имеющих смутные представления о том, что там происходило. Чем хороша проза Хан Ган – это в ее умении легко, играючи переходить из жанра в жанр, создавать несколькими словами нужную атмосферу, и вообще это действительно интересная (и Нобелевский комитет, как видите, это признал) писательница. Еще один роман южнокорейского автора в нынешнем обзоре (кстати, заметили, что корейскую литературу в последние годы стали издавать больше?). Это, конечно, чтение на любителя. Сейчас становится модной такая тенденция, когда действие романа происходит в книжном магазине, или в книжной лавке, или, в данном случае, в книжном баре. Книги сами по себе придают повествованию некое дополнительное, магическое измерение, а в баре «Переплет судьбы» человек может полистать книгу – и изменить собственную судьбу. И сюда начинают приходить люди, которые неудовлетворены своей судьбой, и приходят они не только в поисках счастья и лучшей участи – но и книжки почитать-обсудить. Что мне не понравилось в этом романе – по жанру это такой feel good роман, ближе к фэнтези, где книжный бар становится настоящей волшебной лавкой, в котором вас встретит улыбчивый синеволосый бармен и расторопная официантка с самыми настоящими кроличьими ушками. Они сделают для вас такой напиток, который вы никогда прежде не пробовали. Все потому, что предложенный вам коктейль — ключ к истории вашей жизни. Непонятно, кому адресована такая книга. Взрослый человек, прочитав про «настоящие кроличьи ушки», скорее всего, отложит книгу, а подросток будет разочарован тем, что фэнтезийных фантазий тут явно недостаточно. Книгу со словом «секс» в названии купят, наверно, все. Книгу, где описывается феномен секса в закрытом, застегнутом на все пуговицы советском обществе, где само обсуждение вопросов отношений между полами было крамолой, читать как минимум интересно. Тем более секс так или иначе пронизывает все периоды советской истории. В 1920-е о сексе дискутировали молодые комсомольцы и рабочие. Спустя 10 лет советских девушек могли отправить в тюрьму за роман с иностранцем. Никакого сексуального просвещения в стране не было, любимые упоминания «про это» цензура безжалостно вырезала из фильмов и вымарывала из книг. И тем не менее люди в советской стране рождались, а значит, их родители как-то разбирались, как происходит процесс зачатия. Само собой, такая ситуация порождала коллективную фрустрацию и создание самых диких мифов, связанных с интимной жизнью. На основе архивных материалов, воспоминаний и врачебных записей историк Рустам Александер создал объемную картину сексуальной жизни СССР. Объединяет все истории общий сюжет о том, как запреты абортов, отсутствие просвещения и навязывание ханжеского пуританства приводят к росту невежества, насилия и смертности. И как при этом люди находят в себе смелость внутри тоталитарной системы призывать к либерализации законов, секспросвету и открытым разговорам о сексуальности. Захар Прилепин, цитата которого помещена на обложке книги, пишет об Алексее Колобродове: «Дело даже не в том, что Алексей Колобродов самым очевидным образом — первый, главный литературный критик в современной России. Стоящий в центре того, что скучно именуется «литпроцессом». Первый и по совокупности заслуг, и по точности оценок, и по широте охвата. Меня больше всего поражает его удивительный такт. Он, как садовник, возится с малыми семенами, приглядывает за росточками, беспокоится о всходах. Он — добрый критик». И не поспоришь, вот в чем дело. Я бы еще добавил, что Колобродов творчески шире, глубже, интереснее амплуа литературного критика. Он такой читатель-аналитик, способный разглядеть в тысячу раз перечитанных произведениях новые сближения, парадоксальные переклички с другими книгами, некие ранее невиданные смыслы. Ну вот как увидеть в сцене убийства Егора Прокудина из «Калины красной» отражение пиратских разборок из «Острова сокровищ»? А Колобродов не просто находит, но и аргументированно объясняет, почему он это увидел. Не знаю, насколько выводы и методы критика Алексея Колобродова отвечают неким академическим правилам анализа текстов, но у его книг (жаль, что их немного и выходят они не так часто) есть одно замечательное свойство – их очень интересно читать. Что, кстати, редко случается у книг, написанных литературными критиками – там чаще всего либо скучные выяснения отношений, либо какие-то мститетльные злобные выпады. А Колобродов действительно добрый, умный человек, и прекрасно умеет писать о книгах. Переиздание (и не первое – два года назад книга переиздавалась к 90-летию Бориса Стругацкого, сейчас, скорее всего, к столетнему юбилею старшего из братьев, Аркадия) самой полной, внятной и выверенной биографии «звездного дуэта» советской фантастики. Стругацкие, их творчество, их книги, их репутация, популярность, невероятный читательский ажиотаж вокруг их произведений – все это, конечно, преданья старины далекой, один из символов советской эпохи. Новые поколения читателей предпочитают книги других фантастов. Хотя авторы биографии Стругацких справедливо и не раз замечают, что творчество Стругацких сложно уложить в рамки жанровой научно-фантастической литературы. В закрытой и регламентированной модели интеллектуальной советской жизни Стругацкие воспринимались не просто как модные авторы. Для многих они были пророками, предсказателями, философами, футурологами, способными объяснять в своих романах процессы и тенденции, которые переживало советское общество. Я, в общем, достаточно спокойно отношусь к творчеству АБС, как их принято называть (Аркадий и Борис Стругацкие), но книга Геннадия Прашкевича и Дмитрия Володихина – не просто история этого уникального творческого дуэта, а интересная история сосуществования талантливых писателей с властью, которая их не замечала, партийной литературой, которая их гнобила, и интеллигенцией, для которой Стругацкие стали кумирами. У издательства «АФК-Система», финансируемого понятно какой крупной российской компанией, появилась собственная «биографическая» линейка. Причем довольно специальная – в этой серии издаются книги о малоизвестных или забытых государственных деятелях советской эпохи. До этого в серии вышли книги Вадима Эрлихмана, жизнеописания Леонида Красина и дипломата Максима Литвинова. Личность Анатолия Луначарского, наркома по культуре первого большевистского правительства, в общем, изучена довольно хорошо. Есть несколько интересных биографий, но жизнеописание Сергея Дмитриева можно назвать наиболее полным и – что является несомненным плюсом – максимально отстраненным, объективным. Луначарский в первые годы советской власти был своего рода посредником между интеллигенцией, образованным сословием, которое в массе своей к пролетарской революции относилось, скажем так, сдержанно, и властью, рассматривавшей интеллигенцию в полном соответствии с известным ленинским определением. В итоге его недолюбливали и те и другие – как при жизни, так и после довольно ранней смерти. При этом сам Луначарский был, конечно, человеком совершенно негосударственным, без амбиций стать великим начальником. Он верил в благодатную силу культуры, он многим помогал, наконец, прослужил в советском правительстве дольше всех из наркомов «первого призыва» — 12 лет. Сергея Дмитриев предлагает переосмыслить историческую роль этого человека, приводя множество малоизвестных или прежде неизвестных вовсе фактов. Авторы — команда практикующих врачей, создателей блога pro.gynecology во главе с доктором медицинских наук, профессором Ириной Лапиной, отобрали уникальные факты из истории акушерства и гинекологии в истории аристократических семей и взглянули на них через призму профессионального опыта. Получилось очень познавательно и, в общем, поучительно. Для женщин из правящих домов Европы, королев и цариц, главным было выполнение долга перед монархом – родить ему наследника. А акушерские технологии тогда были такими, что из четырех родов один ребенок погибал, а еще чаще погибали сами роженицы. Когда рожала невестка Екатерины Второй, супруга наследника престола Павла, императрица четверо суток не давала разрешение провести кесарево сечение (что породило слухи о том, что Екатерина это делала нарочно, чтобы лишить сына наследника), в итоге умерли и младенец, и великая княгиня. А еще одним часто встречающимся заболеванием у женщин королевских кровей были психические болезни – считается, что это следствие большого числа близкородственных браков. Знаете ли вы историю Хуаны Безумной, которая так любила мужа-короля, что после его смерти несколько лет путешествовала по европейским странам, возя за собой гроб с его телом? И таких историй в книге предостаточно. Новая книга «животно-культурного» цикла одного из самых авторитетных исследователей средневековой культуры Мишеля Пастуро – до этого уже выходили «культурные истории» волка, ворона и быка, «Читатель Толстов» писал о них. В предисловии к книге Михайл Майзульс пишет, что Пастуро написал также культурные истории медведя и свиньи – они, видимо, на очереди. Теперь героем книги становится кит – один из самых, в отличие от всех других героев созданной Мишелем Пастуро галереи животных, малоизученных представителей животного мира. Поэтому в античные времена и в Средневековье было принято наделять китов самыми скверными чертами – считалось, что киты являются людоедами, что именно эти гигантские морские чудовища повинны в гибели кораблей и моряков, что кит – главный враг человека в море, безжалостный убийца, приходящий из океанических глубин, жестокий и упорный. При этом европейская цивилизация охотно использовала китов для своих нужд: из ребер китов делали палатки, китовым жиром заправляли фонари, а женщины носили корсеты из китового уса. Примечательно, что символическое, мифологическое восприятие кита стало меняться с развитием технологий судовождения. Во-первых, китов научились отличать от других гигантских обитателей моря (кашалотов, касаток), во-вторых, рассказы мореплавателей и научные экспедиции зоологов во многом повлияли на «проекцию в культуре» этого морского животного, когда стало возможным разделять реалистические знания от фантастических вымыслов. Книга вышла «по следам» популярного сериала, кстати, очень хорошего. И как часто случается в подобных случаях, переиздание книги заставило перечитать и понять ее по-новому. Первое издание «Ополченского романса», напомню, вышло в 2020 году, за два года до начала СВО. Это был сборник рассказов, цикл со сквозными героями: вот в одном рассказе мужик едет ополченцем на Донбасс, а в другом он уже командир взвода, держит оборону деревни; вот отпускник-контрактник из России с позывным Дак, оказавшийся в гуще донбасской войны, появляется в нескольких рассказах, а вот капитан Лесенцов едет в отпуск, привозит на Донбасс жену с дочкой, и в финальном рассказе чуть не погибает на минном поле, и так далее. Все это тогда, пять лет назад, выглядело сценами какой-то далекой, непонятной жизни. «Ополченский романс» — беллетристика, и этот относительно небольшой по объему сборник стал, по сути, первой серьезной попыткой художественного осмысления того, что в то время происходило на Донбассе. Военный быт, люди, словечки, сюжеты, байки, персонажи, мелкие детали (особенно ценятся на передовой женские тампоны и памперсы – незаменимая вещь при ранении) –картинки, ракурс, взгляд постоянно меняются: вот местный житель, ставший свидетелем расстрела, вот двое ополченцев, обнаружившие в заброшенном доме живого удава, вот пленные на блокпост пришли сдаваться… По стилю, по качеству прозы, по сюжетам «Ополченский романс» напоминает и военные рассказы Лимонова, и «Донские рассказы» (16+) Шолохова. И лишний раз доказывают, что в военной прозе (как, впрочем, и в жанре короткого рассказа) Захару Прилепину нет равных в современной русской прозе. «Ополченский романс» — беллетристика, и этот относительно небольшой по объему сборник стал, по сути, первой серьезной попыткой художественного осмысления того, что в то время происходило на Донбассе. Военный быт, люди, словечки, сюжеты, байки, персонажи, мелкие детали (особенно ценятся на передовой женские тампоны и памперсы – незаменимая вещь при ранении) –картинки, ракурс, взгляд постоянно меняются: вот местный житель, ставший свидетелем расстрела, вот двое ополченцев, обнаружившие в заброшенном доме живого удава, вот пленные на блокпост пришли сдаваться… По стилю, по качеству прозы, по сюжетам «Ополченский романс» напоминает и военные рассказы Лимонова, и «Донские рассказы» (16+) Шолохова. И лишний раз доказывают, что в военной прозе (как, впрочем, и в жанре короткого рассказа) Захару Прилепину нет равных в современной русской прозе. Очередные два тома юбилейного пятнадцатитомного собрания сочинений Юрия Полякова, который сам себя называет «последним советским писателем», и «Гипсовый трубач», самое большое по объему из его произведений, лишний раз это доказывает. В шестом томе после собственно романа помещен очерк «Как я ваял «Гипсового трубача», где писатель рассказывает, как замыслил роман, как несколько раз к нему приступал, как в итоге придумал совершенно роскошный сюжетный «крючок»: представьте себе дом творчества, доживающий свои дни где-то в Подмосковье, представьте, как туда приезжают писатель и режиссер. А приехали они чтобы написать сценарий фильма, экранизации романа «Гипсовый трубач». И вот с этого начинаются их, скажем так, творческие и прочие приключения. Потому что если уж роман, так это роман. Там будет много второстепенных персонажей, боковых ответвлений, вставных новелл, баек и маленьких историй – по структуре это немного напоминает «Декамерон». Сам Юрий Поляков называет «Гипсового трубача» «иронической эпопеей», и это действительно так. Только к эпитету «ироническая» я бы добавил «ностальгическая»: герои романа глубоко погружены в советское прошлое (на момент написания романа еще относительно недавнее), и истории из советского быта, которых в романе много, только добавляют остросюжетности этому двухтомному произведению. В этом году, напомним, исполняется 155 лет со дня рождения В.И.Ленина, и вот новая книга о нем. Предисловие к книге написал Захар Прилепин, и он пишет: «Для мира фигура Ленина значит безусловно больше любого иного нашего правителя, потому что Ленин — планетарен. Как бы ни восхищались мы русскими князьями, нашими царями, нашими императорами, для большинства людей иных стран и континентов имена Дмитрия Донского, Иоанна Грозного, Екатерины Великой, Александра Первого могут иметь интерес исключительно исторического толка». А Ленин – он другой. Даже спустя сто лет после смерти он остается исключительно актуальным для нашего времени политиком, не говоря уже о том, что это самый издаваемый сегодня в мире русский мыслитель. Рустем Вахитов поставил перед собой непростую творческую задачу – собрать под одной обложкой многочисленные мифы о Ленине, его жизни, его политической деятельности, его последних днях (знаете, что после смерти Ленину приписывали самые мерзкие медицинские диагнозы?), наконец – и это уже ближе к нашим временам – о ленинском культе, который много лет существовал в нашей стране. Книга получилась доказательная, глубокая, серьезная. Видно, что автор, во-первых, тщательно проработал всю историческую фактуру, разобрался даже с происхождением тех или иных мифов. А во-вторых (и это главное) – он искренне любит Ленина как философа, как революционера, как величайшего человека, и книга пронизана этим восхищением и уважением. Небольшая книга, сборник рассказов, а рассказы я очень люблю. Тем более у Дарьи Золотовой (это ее дебютная книга) есть умение в коротком жанре, в каждой истории придумать какой-то сюжетный крючок, который в нужный момент срабатывает как чеховское ружье на стене. Вот девушка слышит, как в соседней комнате, которую снимает ее лучшая подруга со своим бойфрендом, что-то падает. Она как-то догадывается, что бойфренд только что убил ее подругу, но виду подавать нельзя. И вот они сидят рядом на диване, ведут неторопливые беседы, а девушка изо всех сил старается не выдать паники. Вот другая девушка с мамой приезжает в санаторий, к ней клеится сорокалетний мужик, но у них ничего не получится, только потом мама залезет в ее телефон, назначит свидание, но ничего хорошего не получится. Вот пара сходится, женится, переезжает в Москву, потом разводится – и все это дается через цепочку сообщений в мессенджерах, необычно. Вот парень-айтишник приглашает в свою одинокую квартиру девушку, чтобы заняться с ней сексом (в его случае – впервые в жизни), но что-то пойдет не так, и нам будет и грустно, и смешно. У Дарьи Золотовой есть несомненная способность так писать об отношениях, подсматривать (или придумывать) такие ситуации, что вроде бы сто раз о таком читал, но тут вам и фантасмагория, и романтика, и хорошего качества юмор, и заходы на территорию других жанров. Симпатичная книга, всем советую. Второй роман Маргариты Ронжиной, писательницы из Екатеринбурга. О первом, «Одиночка», «Читатель Толстов» писал два года назад. «Одиночка» был таким романом о молодой женщине, родившей ребенка с ДЦП – очень тяжелое чтение, не каждый возьмется. Где девушка осталась один на один с миром, с больным ребенком на руках – и вся ее жизнь превращается в сплошную галерею больниц, палат, врачей, рецептов, и никто не поможет. Такая же атмосфере отчаяния, ощущения несправедливости и неправильности проходящей жизни пронизывает «Непокои». У главной героини Кати бесследно пропадает брат Сережа. Он уходит в поход в горы, из которого уже не вернется. А на дворе начало двухтысячных – свитеры в клетку, джин-тоники, коммерческие ларьки, залы игровых автоматов. И сама Катя – нищая студентка, которой как-то надо устраивать свою жизнь, но она бросила университет, пошла на никчемную работу, встретила Лешу, работающего в компании по продаже нефтяного оборудования. И вот мы наблюдаем за ее поспешным браком, который не нужен, кажется, никому. За бурным романом с другом погибшего брата, человеком непростым, творческим. За попытками спрятать тихое отчаяние под всеми этими встречами, бытовухой, повседневностью, хотя постоянное состояние тревоги и ожидания чего-то очень взрывоопасного не оставляет Катю. У Маргариты Ронжиной очень уверенная в себе, волевая, ни капельки не женская проза – но при этом «Непокои» написаны с таким женским вниманием к эмоциональным оттенкам, к подтексту, с хорошим (и это тоже отмечаешь сразу) стилем. В общем, примечательная книга. |
21:13
|
|
|
|
|
|
|
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:
|
Опубликовано вчера в 21:42
|
|
Опубликовано вчера в 21:37
|
|
В следственном управлении подведены итоги конкурса творческих работ, приуроченного к 80-летию Победы
Опубликовано вчера в 21:13
|
|
Опубликовано вчера в 20:31
|
|
Опубликовано вчера в 20:20
|
|
Опубликовано вчера в 20:16
|
|
Опубликовано вчера в 19:37
|
|
Опубликовано вчера в 19:38
|
|
Опубликовано вчера в 18:48
|
|
Опубликовано вчера в 18:38
|
|
Опубликовано вчера в 18:25
|
|
Опубликовано вчера в 18:24
|
|
Опубликовано вчера в 18:18
|
|
Опубликовано вчера в 17:47
|
|
Опубликовано вчера в 17:42
|
|
Опубликовано вчера в 17:12
|
|
Опубликовано вчера в 16:51
|
|
Опубликовано вчера в 16:34
|
|
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:
01.05.2025 в 18:40, просмотров 357
01.05.2025 в 14:40, просмотров 356
01.05.2025 в 15:40, просмотров 354
01.05.2025 в 14:33, просмотров 348
01.05.2025 в 15:48, просмотров 348
01.05.2025 в 13:17, просмотров 342
01.05.2025 в 18:39, просмотров 337
01.05.2025 в 13:53, просмотров 336
01.05.2025 в 13:38, просмотров 331
01.05.2025 в 19:47, просмотров 322
01.05.2025 в 17:46, просмотров 321
01.05.2025 в 17:52, просмотров 298
|
|